 En
En
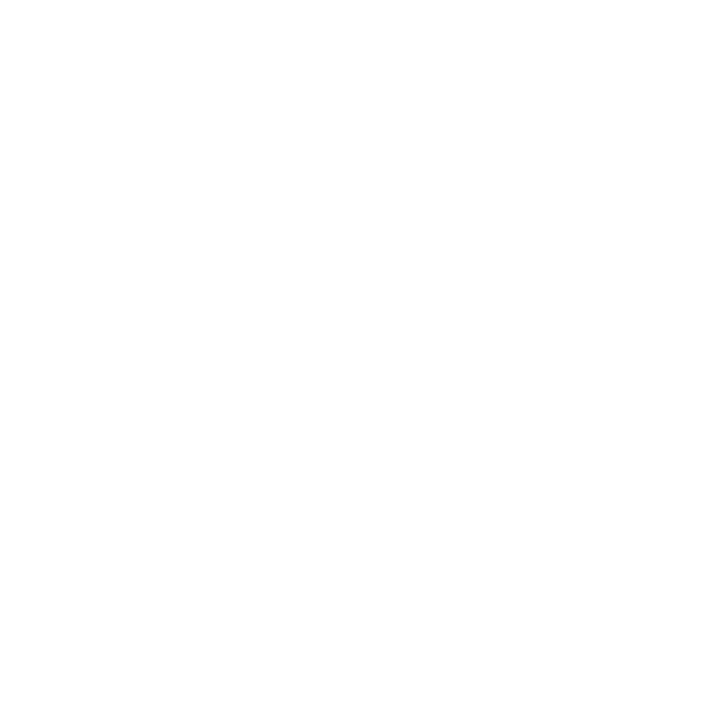
Цитировать: Родькин П. Е. На пути к постпотребительскому обществу // Смена вех 3.2. Том Выпуск 1. — Москва: Э.РА, 2015. — С. 41-76. — EDN: HMAZSG.
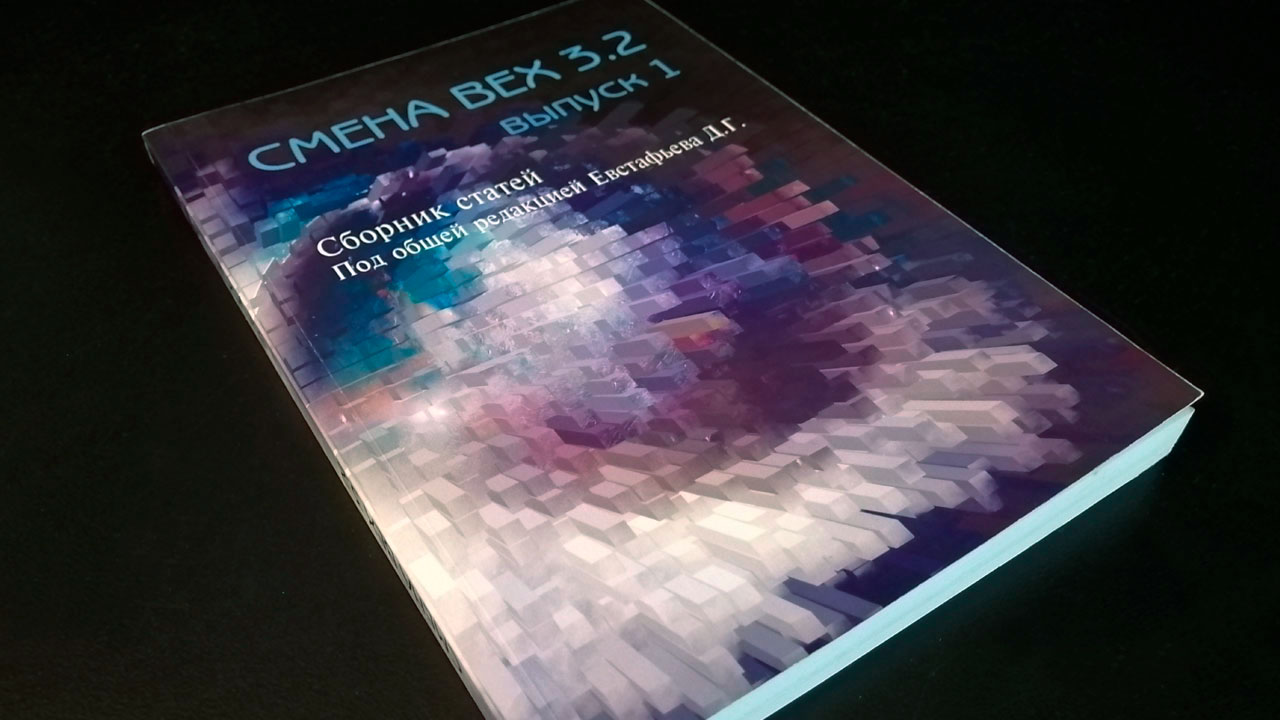
Смена вех 3.2. Сборник статей. М.: Издательство ИП Ракитская Э.Б. (R) Э.РА, 2015. — 208 c.
Введение
Современное общество является потребительским (или обществом потребления), но вернее было бы описать его в качестве тотально потребительского. Специфическая либерально-капиталистическая модель потребления, которая полностью оформилась во второй половине ХХ века, распространяется практически на все сферы жизни современного общества. Состояние потребления при этом представляется как бесконечный процесс, заведомо не имеющий жизнеспособных альтернатив. Концепцию «конца истории» Френсиса Фукуямы [1] в этом смысле было бы правильно применить не к политике, а именно к потреблению. Социальной реальностью общества ХХI века «конец истории» продолжает оставаться и сегодня; альтернативная западнистской ветвь социальной эволюции продолжает существовать только в виде все менее ясного мифа.
Сегодня общество потребления находится в кризисе, выраженном в невозможности дальнейшего воспроизводства, и выходом из которого являются только два варианта: общество будущего будет либо сверхпотребительским, либо постпотребительским. Сверхпотребительское общество — воплотившаяся в жизнь антиутопия, концептуальный образ которой был сформирован в литературе (биопрограммирование потребительских потребностей у Олдоса Хаксли), за основу которого, правда, всегда брались тоталитарные политические режимы (уничтожение труда и излишек потребления в постоянной войне у Джорджа Оруэлла), что может внести политизацию в понимание данного феномена. Собственно, главный нерв заочной «полемики» Хаксли и Оруэлла заключается в принципиально разной технологии власти, как отмечает Хаксли: «В "1984" жажда власти утолялась причинением боли, в "О, дивном новом мире" — не менее унизительным удовольствием» [2].
Постпотребительское общество идеологически воспринимается в качестве утопии, как что-то невозможное и нереализуемое. Проектный образ общества нового типа еще не сформирован и пока эклектичен. Да и само обозначение социального проекта в рамках постпотребления несет, скорее, «переходное» звучание. Но это та точка отсчета, которая дает старт переосмыслению и перепроектированию потребительской системы, подошедшей к гуманитарному исчерпанию.
Переход к постпотребительскому обществу — предмет идеологической, политической, проектной и социальной борьбы. Однако без понимания реальной исходной ситуации и прояснения желаемого образа будущего начать эту работу невозможно. И хотя процесс социально-экономической эволюции является глобальным, речь в первую очередь идет о России, понимаемой в качестве исторического субъекта, а потому (и только в этом качестве) способной к самостоятельной социальной проектной деятельности.
Идеология
Возможность переосмыслить потребительскую модель экономической и общественной системы Россия получила в конце 2014 года. Нежизнеспособной оказалась сама система, делавшая возможным беззаботное существование в рамках экспортно-сырьевой экономики. Такая ситуация сложилась не из-за неправильных менеджерских или политических решений, а вследствие объективных причин: новой холодной войны Запада против России, экономически и прежде всего идеологически не готовой к такому повороту событий. Перелом 2014 года по инерции воспринимается как неожиданный, экономически нелогичный и немотивированный эксцесс. Элита продолжает питать иллюзии, что ситуация скоро вернется в состояние образца 2013 года, когда взаимные обиды будут забыты, система заработает вновь, ведь у постсоветской России нет идеологических противоречий с Западом, почти все условия которого были выполнены…
Потребление было объявлено главным и самым высшим достижением современного российского общества. Его кризис поэтому является не только чисто экономическим, но и идеологическим. Ведь никакая экономическая система не может существовать без концептуального обоснования и реализации через гуманитарные и коммуникационные инструменты.
С неизбежностью 2015 год становится временем начала и обострения идеологической борьбы, одним из полей которой является потребление. Какое-то время она будет отрицаться, что является предсказуемой реакцией элит, все еще не верящих в реальность произошедших изменений и пытающихся спрятаться и переждать их за привычными политтехнологическими симулякрами. В эту реальность до конца не верят и сами сторонники перемен.
Подавляющая часть российской политической элиты, бизнеса, менеджмента на всех уровнях пытается игнорировать приближение новой постпотребительской реальности, с которой гораздо труднее смириться, чем с т.н. постиндустриальным обществом. В 2014 году делать это было очень легко, ведь происходящие процессы воспринимались как политическая конъюнктура, которая все равно позволяла сохранять привычный образ жизни. Сегодня попытки сохранить status quo и сопротивление переменам будут только усугублять кризис системы, и приближать эти перемены. Впервые обозначилось вынужденное, практически принудительное оздоровление не только экономики, но и всей социально-политической системы современной России.
Потребление умирает естественной, хотя медленной и мучительной смертью. Собственно, все антикризисные меры предпринимаются еще в рамках неолиберальных парадигм. Уютный и душный мир колониально-франшизной экономики и культуры (колониальный в современном мире не всегда означает потребительски некомфортный) подходит к исчерпанию. Заморозить социальную проектную деятельность в XXI веке возможно только через диктатуру, к которой уже вплотную подошло западное общество потребления.
Наивно полагать, что под обломками потребления окажутся только элиты. Но поиск лазеек для нахождения компромиссов может только ненадолго отстрочить неизбежный крах сладостного потребительского «застоя», которое, наконец, дало трещину, еще не идеологическую, но уже экономическую. Однако идеологическая составляющая потребления остается ключом к изменению всей социально-политической модели общества.
Современное непроизводственное потребление охватило не только сферу экономики, но культуру, политику и все общество. Идеологический (и даже геополитический) контекст потребления продемонстрировала в общественном измерении экономическая война Запада с Россией. Потребление продолжает оставаться идеологией, являющейся одним из компонентов того, что Александр Зиновьев обозначил как «западнизм» [3].
Несмотря на то, что санкции против России разворачиваются в сугубо экономической плоскости, однако внутри страны либеральной частью общества они были восприняты именно идеологически. Экономический анализ необходимости и последствий ответных санкций был предельно вульгаризирован и сведен к истерике по поводу ставших в 2014 году нарицательными, но быстро забытых хамона и пармезана. Поднятая в социальных сетях и ряде СМИ в 2014 году тема «голода» и «дефицита» свелась к одному: любое ограничение или замена западных продуктов на любые другие — немыслима и невозможна в принципе. Такая ситуация, на самом деле, является следствием и продолжением объективных социально-политических процессов. Рост и развитие современного потребления произошел в эпоху идеологического противостояния СССР и Запада. Потребление всей второй половины ХХ века решало не только чисто экономические задачи получения капиталом прибыли, а затем, с развитием гуманитарных и коммуникационных технологий, и сверхприбыли, но и выполняло важные пропагандистские функции, став, по сути, витриной западной системы.
Идеология потребления носит неявный характер, предметом общественного внимания (и подозрения) традиционно является государственная идеология. Как отмечает в «Очерках теории идеологии» Глеб Мусихин: «Пока существуют правительства, нуждающиеся в общественном признании, бессмысленно отрицать наличие политической риторики, пытающейся формировать то или иное политическое sensus communis. А это значит, что утверждение о конце идеологий, по меньшей мере, неточно. Опираясь на разграничение сознательного и подсознательного, смысла и удовольствия, можно обнаружить, как «деидеологизированные» представители общества XXI века подвержены неосознанному политическому цинизму в отношении политического авторитета. Именно этот цинизм лежит в основе действия идеологических установок, формирующих «послушное большинство» современных обществ. И в зависимости от стечения обстоятельств это «послушное большинство» может быть либеральным, фундаменталистским, националистическим или имперским и т.д.» [4]. Однако эффект внешней деидеологизации современного общества возникает вследствие несконцентрированности идеологии в каком-то одном философском и политическом учении и, что еще важнее, несконцентрированности ее исключительно в сфере политики и классического государства. Институты потребления являются такими же реальными носителями идеологии, как и политическая система государства. Идеологические функции потребления точно так же отвечают за формирование послушного большинства и сохранения потребления в любом из вариантов общественной формации. В этом смысле усиление тоталитарного контроля в потребительском обществе не является противоречием.
На прикладном уровне идеология потребления, сама по себе примитивная, стала универсальным инструментом глобализации, или по Зиновьеву — западнизации. Это позволило потреблению продолжать выполнять идеологические функции и после распада СССР, когда видимые противоречия между двумя системами потеряли актуальность.
Один из интеллектуальных лидеров антиглобалисткого движения на Западе Наоми Кляйн отмечает: «Во время холодной войны потребление в США было не только делом удовлетворения личных потребностей — оно было экономическим фронтом великой битвы. Когда американцы шли на шопинг, они участвовали в образе жизни, который коммуняги предположительно хотели сокрушить. Когда многоцветные торговые мегацентры сравнивались с серыми и пустыми московскими магазинами, дело было не только в том, что мы на Западе могли легко купить Levis 501s. В этом повествовании наши торговые центры означали свободу и демократию, тогда как их голые полки были метафорой контроля и репрессии. Но когда холодная война закончилась, и этот идеологический задник разорвали на тряпки, сопровождающий шопинг величественный смысл испарился. Без идеологии шопинг стал просто шопингом» [5]. Современное потребление не может воспроизводиться без смыслов, которые при этом встраиваются и образуют единое целое с самыми банальными потребительскими практиками. Как пишет Кляйн: «Реакцией корпоративного мира стал "брендинг стиля жизни" — попытка восстановить потребительство как философское или политическое занятие с помощью торговли могущественными идеями вместо просто товаров. Рекламные компании пытались приравнивать свитера от Benetton к борьбе с расизмом, мебель Ikea – к демократии, а компьютеры — к революции. Брендинг стиля жизни на какое-то время заполнил вакуум "смысла" шопинга, но этого оказалось недостаточно, чтобы утолить амбиции рыцарей холодной войны старой закалки. Когда американские политики призывают своих граждан бороться с терроризмом посредством шопинга, речь идет о большем, чем о подпитке больной экономики. Речь снова идет о завертывании повседневного в обертку мифического…» [6]. Но то, что в самих США приобретает все более гипертрофированную и карикатурную форму, вызывает раболепное преклонение в России. Несмотря даже на то, что потребление было связано с фундаментальной и шоковой ломкой всего социального уклада.
Потребление остается абсолютной ценностью современного общества и вытеснило из социальной жизни все остальные. Потребление является сегодня критерием общественного блага и цивилизованности государства. Таковым оно остается в общественном сознании. В неолиберальном дискурсе, потребление (в логике идеологического противостояния холодной войны) не имеет негативной стороны и рассматривается вне всякой диалектики. Согласно этой точки зрения, потребление может быть противопоставлено только собирательному образу тоталитарных режимов, а любое сокращение или снижение потребления является неминуемым возвращением в пресловутый «совок».
Идеологический образ потребления исключает его оборотную сторону, которой становится дегуманизация, деквалификация труда, рост эксплуатации и социального расслоения, подмена базовых потребностей социума в доступном образовании, здравоохранении, жилье и интеллектуальном развитии. Потребление растрачивает слишком много интеллектуальных и человеческих ресурсов, которые могли бы быть направлены на социальный, технологический и гуманитарный прогресс.
Потребительское общество насаждает крайне упрощенную картину социальной системы. Неслучайно вся дискуссия вокруг потребления сводится к частному, бытовому уровню, в то время как общая ситуация останется за рамками понимания. Разменять в буквальном смысле страну за мелкое потребительское счастье для идеологии западнизма представляется естественным и равноценным. Ведь наличие фастфуда вполне искреннее приравнивается к принадлежности к цивилизованному миру.
Парадокс потребления в России заключается в том, что объекты потребления, даже став привычными и доступными, не перестали быть желанными и остаются безусловной ценностью. Таким образом, потребление становится внутренним феноменом (и проблемой), хотя в существующем виде привнесено извне. Фактически, только западное потребление считается правильным и единственно возможным. Поэтому никакие рациональные доводы, например, о пользе ответных санкций для отечественного сельхозпроизводителя, на носителей западнизма не действуют.
Потребление стало частью и продолжением глобальной политики, а во многом само превратилось в политику. Это значит, что развитие национальной экономики и национальной политики напрямую связано с необходимостью национализации потребления. Без национального потребления, которое включает в себя не только экономическую составляющую в виде покупательной способности населения, но и гуманитарный компонент в форме идеологии, невозможно развивать национальное производство. Для этого западное потребление должно быть демифологизировано не только для элиты, но и для масс.
В противном случае кризис российской экономики, ставший непосредственным следствием всей либеральной экономической модели, может быть использован в качестве политического ультиматума России. В общественном измерении этот ультиматум реализуется через потребительский кризис, имеющий самые негативные социальные последствия: современное российское общество настолько сильно и безальтернативно интегрировано в потребление, что любое колебание может иметь эффект домино.
Угроза, нависшая над обществом потребления, которое в идеологическом представлении прочно отделяет «совок» от мира западной цивилизации, стала одним из главных рычагов шантажа российского общества, неизбежно переходя в политический ультиматум: сдавайтесь и все вернется обратно, цены на нефть снова повысятся, санкции будут сняты, экономика заработает, как ни в чем не бывало. Совершенно очевидно, что условиями прекращения экономической войны против России является ее полная капитуляция как исторического субъекта.
Возврат к докризисному состоянию экономики «гарантируется» только через полную и окончательную потерю национального суверенитета. Никакой иной вариант развития кризиса не предусматривается Западом, собственно даже верность капиталистической модели экономики, декларируемой российским либеральным политическим классом, уже не является «гарантией» мира.
Система российской экономики конструировалась как полностью зависимая от Запада. Зависимым ее делало потребление. Но общество до поры этого не замечало, так как было буквально завалено потребительскими «благами», которые сегодня у него отбираются. Российское государство, в отличие от СССР, смогло буквально в последний момент сломить тренд на идеологическую деморализацию общества, но национализация потребления не была реализована: национальный производитель и продавец (и так по всей цепочке) зависит от курса иностранной, а не национальной валюты.
Собственной концепции потребления и полноценного образа общества в России на данный момент объективно нет. Проблема заключается в том, что ни у власти, ни у общества, ни даже у бизнеса — нет концепции национального потребления, без которой позитивно решить ее невозможно. Если взять, например, сферу общественного питания, то бизнес-модель локальных фастфудов построена на копировании модели все того же «Макдоналдса». Предлагается просто поменять один ассортимент на другой, «правильный» или «национальный», но сама конвейерная система производства и потребления остается прежней. Ведь новая версия фордизма, — феномен «макдональдизации общества» [7], как его обозначает американский социолог Джордж Ритцер, — полностью отвечает принципам либерально-капиталистического общества. Как указывает Ритцер, макдональдизация затрагивает не только сферу фастфуда, по ее принципу выстраиваются бизнес, культура, образование, медицина и политика, а обратной стороной макдональдизации является дегуманизация и деквалификация труда.
Россия не вписалась в потребление. Масштаб происходящего можно осознать, если под потреблением понимать не только свободное распространение товаров массового производства или роскоши, но, прежде всего, встраивание страны в мировую систему разделения труда. Условием этого встраивания был добровольный отказ от собственного производства, финансовой системы, политического суверенитета и т.д. Данную модель можно описать формулой: торговые центры вместо заводов, но чаще всего она представлялась в позитивных и привлекательных терминах постиндустриального общества или креативной экономики.
Россия вошла в «цивилизованный мир» на правах потребителя материального и нематериального продукта западного общества. Любое непослушание в рамках системы при этом каралось мгновенным отлучением от потребления, что фактически и происходит сегодня.
Это только в учебниках по маркетингу (и прочей «профессиональной» литературе) общество потребления служит на благо потребителя… В реальности оно устанавливает самые жесткие формы контроля и устраняет субъектность не только отдельных классов общества, но и целых стран. От допущенных к потреблению требовалось полное идеологическое и политическое подчинение, которое и было нарушено Россией в 2014 году. Страна-потребитель в системе западной глобализации не может быть сувереном и выступать в качестве полноценного партнера по отношению к «золотому миллиарду», что так и не поняла постсоветская элита. Национальные интересы в современном мире распределяются так же, как ресурсы и товары.
Запад действует против России, исходя из принятых нами же самими правил. Восприятие позиции и поведения США и Европы в качестве «беспредела» или нарушения международного права означает полное непонимание реальной структуры и системы того «цивилизационного» (причем в буквальном смысле) выбора, который в России даже сегодня объявляется единственно верным и не подлежащим сомнению.
Главная опасность экономического кризиса заключается не в падении прибыли собственников бизнеса, а в негативных последствиях для наемного труда. Если взять, например, рынок продовольствия, то большинство продуктов на нем является химией, настоянной на маркетинге. Современное потребление практически во всех сферах — избыточно и вредно. Вот только куда девать целый социальный слой, стремительно приближающийся к состоянию западного прекариата, который обслуживает и плотно встроен в систему потребления? Сегодня этот ключевой вопрос приобретает совсем не риторический характер.
Любой кризис и системные колебания рынка автоматически делает общество лишним. Ведь вся политэкономическая система строилась таким образом, что сфера потребления и сервисов была единственной возможностью существования и социализации для большинства. Эта сфера последовательно расширялась, так как идеологически и фактически была не связана с социальными обязательствами бизнеса, к чему призывалось и государство. Других возможностей самореализации для социума просто нет. В социальном отношении либеральный капитализм вообще оказался крайне дефицитной системой, в которой для общества ограничено и недоступно образование, стабильная работа, медицина, жилье, социальные гарантии и т.п. Этот барьер прочно отделил избранную элиту от большинства и стал непреодолимым социальным барьером в постсоветском обществе.
В эту систему и не вписалось российское общество, которое в полной мере начало испытывать кризис развития и воспроизводства. Но пока изобилие западных товаров остается одним из главных «индексов» благополучия российского общества, а западная либерально-капиталистическая модель потребления и структуры общества продолжает воспроизводиться и насаждаться, текущий экономический кризис может иметь самые катастрофические последствия для государства и общества.
Инструменты
Идеология и экономика потребления не могли бы быть реализованы без специальных инструментов. Не случайно уже упомянутый Хаксли по отношению к рекламе предпочитает употреблять понятие «коммерческая пропаганда» [8]. Особое место в современной потребительской экономике и обществе получили брендинг, маркетинг и дизайн, став самостоятельной и заметной частью рынка интеллектуальных услуг. В существующей политэкономической модели они, безусловно, необходимы капиталу, но не приносят пользы обществу и государству. Эта проблема имеет важное значение в работе над прикладной идеологией и социальной конструкцией постпотребительского общества.
Инструментами современного потребления, обеспечивающими его постоянный рост, являются брендинг, маркетинг, дизайн, реклама, которые для удобства терминологически можно объединить в креативную индустрию. Креативная индустрия является профессиональной отраслью производства и распространения интеллектуального продукта в сфере потребления. Начиная со второй половины ХХ века, креативная индустрия превратилась в один из мощных инструментов формирования менталитетной и идеологической сферы современного общества, во многом «вытеснив» классические гуманитарные институты.
Значение маркетинга и брендинга в рамках существующей экономической системы достигло небывалых высот. Маркетинг стал восприниматься как субъект экономики, что неверно фактически, но полностью соответствует идеологии современной политэкономии, не в последнюю очередь в качестве «дымовой завесы» реальных процессов её функционирования. Маркетинг и брендинг — это спекулятивные инструменты социально-экономической эксплуатации, выжимания сверхприбыли и поддержания сверхпотребления через перманентное повышение добавочной стоимости. Отметим, что тема эксплуатации в современном обществе закрыта и табуирована, поэтому потребление идеологически представляется не как форма «возвращения» оплаты труда и свободного времени наёмного работника капиталу, а как высшее общественное и политическое благо, противопоставляемое тоталитарным и недемократическим режимам.
Однако сама политэкономия потребления находится в состоянии исчерпания; кризис носит фундаментальный характер. Базовая проблема капитализма, описанная ещё Марксом и заключающаяся, как известно, в неограниченном производстве и ограниченном потреблении, принципиально так и не решена. Вернее, решение в виде спекулятивной и виртуальной экономики оказалось лишь временным успехом, в стратегическом плане обернувшись типичным «цугцвангом». Перед современным капиталом стоит противоречивая задача: ограничить благосостояние граждан (социальные обязательства и издержки) и сохранить сверхпотребление (сверхприбыль). Решить это противоречие позитивными и гуманистичными способами практически невозможно.
Креативная индустрия всячески обходит стороной и не замечает политэкономическую основу своего существования. Реальные функции современного брендинга, маркетинга, дизайна и рекламы выводятся за пределы социальной критики, а политэкономическое приближение к анализу деятельности креативной индустрии объявляется чуждым и неприменимым к ней.
Креативная индустрия «автоматически» попадает, в терминах некогда популярного Ричарда Флориды, в креативный класс, но на самом деле, в терминах все того же Флориды, является «обслуживающим классом» [9]. Креативная индустрия обслуживает бизнес, как хотят нас уверить, без последствий для общества. Это очень хорошо видно на примере истории дизайна, который примерно до середины 70-х годов ХХ века сохранял напряженные социальные поиски и научное понимание общества в рамках социального прогресса и культуры, но в 80-е превратился в коммерческий бизнес-сервис или же маргинальное «искусство для искусства». Маркетинг и брендинг никакой социальной миссии и ответственности уже не содержали. Современная креативная индустрия занимается «принуждением» к потреблению (отчуждению заработной платы у работника) посредством гуманитарных и коммуникативных технологий, но подобный взгляд для ее представителей немыслим и невозможен. Так, маркетологи вполне искренне верят, что работают «на благо» потребителя.
Действительно, креативная индустрия вносит существенный вклад в современную экономику, только современная экономика привела общество к глубокому кризису. В этом качестве брендинг, маркетинг, дизайн и реклама уже давно не отвечают реальным интересам общества, принося пользу только капиталу. Задачей формирования реалистического понимания социальной действительности является «вскрытие» подобных «обманов» социально-политической системы. Креативная индустрия должна быть рассмотрена в рамках общественной пользы. Впрочем, в существующей системе подобная постановка проблемы не имела до сих пор смысла.
Для российской креативной индустрии начинается новая эпоха. Причем не благодаря внутренней эволюции, а во многом вопреки ей, прежде всего вследствие внешних фундаментальных исторических изменений, произошедших после весны 2014 года. Мир изменился. Реальность изменилась. Россия возвращает себе политическую и экономическую субъектность. Это заставляет переосмысливать и перенастраивать модели производства и потребления и, естественно, их инструменты.
Способность российской креативной индустрии в существующем качестве решать позитивные задачи формирующейся новой политэкономической реальности взывает сомнения. Российская креативная индустрия пытается дистанцироваться и не замечать произошедших изменений и работать так, как будто бы ничего не случилось, заниматься «привычным ремеслом». Это свидетельствует о непонимании креативной индустрии общества, в котором и для которого она работает.
Проблема заключается в том, что креативная индустрия в нынешнем ее виде работает не на общество и, как многие представители бизнеса, принципиально не связывает себя с ним общими ценностями, интересами и судьбой. Впрочем, иначе и не могло сложиться в условиях колониальной модели потребления, при полном отсутствии собственного понятийного аппарата (даже на уровне адекватного перевода на русский), концепции общества и общественной пользы. Напомним, что в СССР такая концепция была. Был и актуальный для своего времени перевод того же термина «дизайн», английское название которого практически не употреблялось, а дискуссия вокруг профессии велась на высочайшем интеллектуальном уровне [10].
Таким образом, рынок интеллектуальных услуг России должен измениться качественно. Для этого необходимо расширить операционное пространство и понятийный аппарат по линиям политической идеологии и экономики. Новыми задачами для российской креативной индустрии в изменившихся политических, геополитических и экономических условиях является переориентация на внутренние производство и потребление, а также евразийскую интеграцию.
В среднесрочной, а то и в краткосрочной перспективе одним из самых актуальных направлений станет евразийское пространство, реальной платформой которой является Евразийский экономический союз. Но без идеологии (смыслового и коммуникационного обеспечения процессов евразийской интеграции) здесь делать просто нечего. Маркетингу, брендингу, дизайну и рекламе придется заново учиться политическому и социальному мышлению. В новых условиях к чисто коммерческим неизбежно прибавляются политические и идеологические функции, которыми, пусть и в скрытом виде, пользуются в т.н. «первом мире». Креативная индустрия должна стать частью государственной пропаганды, избавившись от либерально-капиталистических представлений и мантр о том, что бизнес и государство существуют отдельно.
«Переждать» исторические изменения не получится. Позитивных результатов без понимания происходящих фундаментальных и системных изменений не будет, а перестановка акцентов внутри креативной индустрии (например, с брендинга на маркетинг и наоборот), копирование западных моделей без их понимания, поиск новых решений в старых парадигмах — ничего не даст. Таким образом развитие креативной индустрии вне рамок смены парадигмы социального развития и обеспечения национальных интересов, неотъемлемой частью которых в свою очередь является ответы на внешние угрозы, больше неприемлемо.
Сегодня мир находится в начале переломного момента, ещё не предвещающего изменений, а маркетинг и брендинг все еще кажутся, и на самом деле являются незыблемыми. Но некоторые контуры будущего уже начинают проявляться. Такие понятия, как «веб 2.0» (Дейл Догерти), «пиар 2.0» (Брайан Соллес), «маркетинг 3.0» (Филипп Котлер), свидетельствует о потребности в инструментальном обновлении для поддержания системы. Некоторые деятели креативных индустрий уже понимают, что традиционные маркетинг и брендинг доживают последний срок.
Когда руководитель рекламного агентства Saatchi & Saatchi Кевин Робертс на лекции в Москве в 2012 году провозгласил о смерти менеджера, маркетинга и стратегии в условиях нестабильного неопределённого, сложного и неоднозначного мира VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) [11] то эти тезисы были восприняты в России как самореклама и пустое запугивание. И действительно, к подобным заявлениям нужно относиться критически, потому что поиски новых креативных возможностей происходят в рамках существующей политэкономии, а значит, также не работают при более или менее радикальном от нее отступлении. Маркетинг, брендинг, реклама все меньше в состоянии управлять потребителем без нарушения стабильности системы. Попытки отсрочить конец не могут продолжаться бесконечно долго и даже не зависят уже от вырабатываемых внутри существующей политэкономии технологий.
Идеология потребления не может существовать, игнорируя реальность (а именно — кризис потребления), а это значит, что перестают работать и ее инструменты. Маркетинг и брендинг не могут позитивно преодолеть кризис потребления, так как не способны решать фундаментальные гуманитарные задачи; они не субъекты политэкономии, а инструменты капитала, как уже было отмечено выше, к тому же в последнее время отрасль сильно деинтеллектуализирована [12], что является верным показателем недееспособности российских креативных индустрий.
Когда начнется кризис отрасли, связанный с фундаментальными изменениями политэкономической системы, большинство профессионалов в области брендинга и маркетинга даже не поймут, в чем дело и что они сделали не так. В России они будут возмущаться плохим государством, никчемным народом, проклятым наследием СССР и т.д. и т.п. Пикантность ситуации заключается в том, что капитал легко избавится от ставших обременением институтов и наемных работников, которые с упоением повторяют его идеологемы и догмы. Но таким же образом капитализм поступит с любыми другими «лишними людьми».
Если в новых условиях коммуникациям и дизайну в политэкономии будущего могут быть поставлены новые задачи, и они будут переориентированы с чисто коммерческих, направленных на обогащение капитала функций, на общественные и производственные, то для маркетинга и брендинга в существующем виде таких задач просто нет. Функции брендинга будут вновь переданы дизайну, а функции маркетинга — новой плановой экономике (перераспределению). Кто и сможет устоять в будущем, так это дизайнеры, у которых есть хотя бы «доспекулятивная» и «домаркетинговая» теория (если к этому времени она не будет полностью забыта) и которые необходимы для элементарной визуальной коммуникации. Таким образом, современная теория дизайна должна уже сегодня ставить вопрос: чем дизайн может заниматься в будущем, когда ни маркетинга, ни брендинга не будет.
Конечно, процесс демонтажа и ресоциализации креативных индустрий будет крайне болезненным и непростым. Крах маркетинга и брендинга затронет массы, не только занятые в отрасли, но и большинство находящихся «по другую» сторону потребления. Для общества эти изменения позитивны, хотя являются всего лишь следствием фундаментальных экономических и гуманитарных подвижек, надежда на которые всё ещё есть у сохранившей трезвое понимание политэкономической реальности нового общества.
Социум
Потребление из чисто экономического феномена превратилось в феномен социальный и политический и, хотя и не является главным источником власти, но стабильно обеспечивает сверхдоходы и условия эксплуатации для капитала. Особенно сильное воздействие оказало потребление на общество, без преобразования которого данная модель не смогла бы работать. Изменение потребительской модели происходит одновременно с социальной. Для России эта сфера является особенно актуальной, так как все еще имеет шанс к положительному изменению.
Часть программной статьи Михаила Прохорова «НЭП 2.0» [13] 2014 года, касающаяся самых болезненных для общества тем новой социальной политики: работы, медицины, образования, — вызвала особый резонанс в обществе. Идеи, высказанные Прохоровым, интересны, прежде всего, тем, что ретранслируют базовые принципы либерально-капиталистического проекта социальной реорганизации общества, за которыми стоит сформировавшийся глобальный субъект власти. Преградой на пути реализации этого проекта остается социальное государство.
Было бы ошибочно относиться к высказываниям Михаила Прохорова, причем весьма последовательным, как к своеобразному политическому шоу. Упрекать его в аморализме и людоедстве — бессмысленно. Прохоров является выразителем целостной системы взглядов и идеологии западного, ставшего глобальным, сверхобщества (т.е. объединения более высокого уровня, чем традиционные национальные государства) [14] и одним из его идейных «эмиссаров». Глобальное сверхобщество оперирует иным типом морали и ценностей. Фундаментом этой идеологии является власть, основанная на социальном и экономическом неравенстве и разделении людей на низших и высших. Кризис текущего социально-экономического уклада, разрушение сложившегося консенсуса не замечать все сложнее. Поэтому ряд глобальных игроков хотят его форсировать.
Программа Прохорова формулирует дорожную карту на основе старой американской либерально-капиталистической модели социального устройства с ее отношением к труду и человеку, целью которой является сохранение власти капитала через социальную реорганизацию всего человечества. Первым шагом такой реорганизации является демонтаж общества всеобщего благосостояния, ставшего одной из главных миссий научно-технического прогресса. Это вызывает недовольство Прохорова: «наша социальная политика направлена не столько на создание возможностей для самореализации личности, сколько на поддержание определенного уровня благосостояния всех сразу». Об этом же и тоже публично заявил еще в сентябре 2013 года новый король Нидерландов Виллем Александр: «Социального государства ХХ века больше не существует». Вместо него провозглашено «общество активного участия» [15].
Наивно думать, что речь идет исключительно об эффективном бизнесе, у которого нет обязательств перед обществом и ограничений со стороны государства, но при этом почему-то обеспечивающим эффективность и того, и другого. Экономика и бизнес выступают отнюдь не самоцелью, а инструментом социальной реорганизации. При этом усложнение социальной и профессиональной структуры общества (вследствие развития новых технологических укладов) происходит одновременно с упрощением и архаизацией его организации, выраженной в простом, надклассовом делении: «капитал-власть» — «работник-раб», с расчеловечиванием последнего.
Проект общества всеобщего благосостояния, который одновременно реализовывался и в СССР, и на Западе под руководством США, в условиях прекращения глобального противостояния двух систем больше не нужен, идеологических функций он не выполняет. Более того, всеобщее благосостояние стало опасным. Лучше всего об этом написал в романе «1984» Джордж Оруэлл (если уж мы затронули тему антиутопии) в части, посвященной теории и практики олигархического коллективизма: «…общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью, а в каком-то смысле и есть уже его гибель… Став всеобщим, богатство перестает порождать различия… если обеспеченностью и досугом смогут наслаждаться все, то громадная масса людей, отупевших от нищеты, станет грамотной и научится думать самостоятельно; после чего эти люди рано или поздно поймут, что привилегированное меньшинство не выполняет никакой функции, и выбросят его» [16].
СССР был уничтожен Западом, что открыло возможности для социальной контрреволюции, которая в мировом масштабе обернулось настоящей социальной катастрофой. Но принципы советского сверхобщества не были уничтожены полностью, они остались и могут быть реализованы и в современном обществе. Это особенно беспокоит Прохорова: «государство, беря на себя слишком много ответственности, поддерживает советское отношение общества к образованию и здравоохранению как к "непроизводственной" сфере, как к чему-то, что может быть получено бесплатно, тем самым препятствуя проникновению современных бизнес-подходов». Таким образом, НЭП 2.0 (правильно было бы говорить: рабство 2.0) означает конец общественно-полезного труда и демонтаж социального государства.
До сих пор функции социального гипноза и одновременно витрины капиталистического общества выполняло потребление, которое продолжает связываться с благосостоянием. Даже несмотря на то, что стало универсальным инструментом отчуждения и возвращения заработной платы и обогащения капитала, в рамках этой замкнутой системы являющегося единственным полноправным субъектом власти. Но расширение потребления имеет свои границы и подходит к той стадии, когда не может функционировать без стимуляции и принуждения. Магия потребления, работавшая в эпоху холодной войны, испаряется. Новой уловкой, позволяющей срыть реальные механизмы власти, стал так называемый «человеческий капитал». Говорит о нем, разумеется, и Прохоров: современная экономика — это экономика человеческого капитала, в которой человек является «главным активом и главным источником добавленной стоимости».
Здесь следует сделать принципиальное разъяснение. Человеческий капитал воспринимается обществом как нечто положительное: человек есть ценность, но капитал воспринимает его совсем по-другому, в архаическом смысле: количество рабов и качество рабской силы — капитал хозяина. Человеческий капитал есть высшая форма дегуманизации, и тот же Прохоров пишет об этом вполне откровенно: «система жилищно-коммунального хозяйства, общественный транспорт и питание, правоохранительная деятельность, наука и оборона — это важные отрасли экономики и общественных услуг, но их не нужно смешивать с воспроизводством человека». Понять это мешает мощный механизм обработки сознания, обслуживающий современную экономику. Происходит это потому, что основой сознания креативного класса, разделяющего идеологию либеральных реформ, стала ложная социальная идентичность. Креативный класс считает себя обществом «первого сорта» и ассоциирует свои интересы с интересами капитала, даже оставаясь наемным работником. Сегодня ложная идентичность является инструментом не только геополитики, но и социальной системы, что происходит в России.
Современная потребительская экономика становится репрессивной и ограничительной системой. Одним из ее двигателей, как уже было отмечено, является принуждение через гуманитарные и коммуникационные технологии. Проблема заключается в том, что сложившиеся способы принуждения подходят к определенному пределу. Таким образом, чтобы сохранять власть и богатство, элита вынуждена менять не просто рынки или потребности человека, а саму социальную, а возможно, и биологическую структуру человечества.
Возникновение на Западе негативного общественного феномена в виде нового социального класса — прекариата, которому посвящено исследование британского социолога Гая Стэндинга [17], заставляет по-новому взглянуть на социальную эволюцию современной России. Ведь этот и другие социальные недуги Запада ускоренно переносятся в российское общество, угрожая ему реализацией неолиберальной социально-экономической модели.
Прекариат (неологизм, образованный от «нестабильный», «неустойчивый» и «пролетариат») в Европе и особенно США возник благодаря фундаментальной реструктуризации труда и общественного дохода в процессе глобализации и неолиберальной политики второй половины ХХ века. Прообраз прекариата можно найти и в эпоху античных полисов и во времена Маркса, но на системном и проектном уровне этот феномен проявился именно сегодня и выходит в завершающую стадию оформления. Рост прекариата связан с рядом социальных и экономических явлений, меняющих всю структуру экономики и современного общества. На них указывает в своей работе Стэндинг.
Временная работа и гибкость рынка труда.
Главной характеристикой прекариата является статус временного рабочего или служащего с нестабильным доходом и сопутствующей безработицей. Доля временных работников на Западе возросла после глобального кризиса 2008 года, давшего компаниям отличную возможность избавиться от постоянных сотрудников и перевести их на контрактную основу. Гибкость системы труда автоматически привела к непредсказуемой заработной плате (речь уже не идет о ее снижении).
Социальная незащищенность.
«Гибкие» трудовые отношения, обусловленные зависимостью от рыночного спроса и предложения, привели к нарушению всех форм трудовых и социальных гарантий (медицинская страховка, пенсионные накопления, финансовые обязательства и т.д.). На фундаментальном уровне — место граждан в современном обществе занимают «резиденты», которые, особенно молодежь, превращаются в новых «городских кочевников». Не случайно, что традиционное государство объявляется сегодня устарелыми и отмирающим.
Социальное отчуждение, невозможность солидарности и организации.
Гарантиями занятости пролетариата в ХХ веке стало его социальное представительство, которого фактически лишается прекариат вследствие гибкости своей численности, разнородности состава, а также отсутствию коллективных форм социальной самоидентификации и выражения, что рождает страх, утрату ориентиров и ценностей, социальное отчуждение, отсутствие уверенности в будущем. Одновременно с этим работник принуждается к «позитивному мышлению» на фоне взвинчивания конкуренции, возведенной в абсолютный культ и базовый принцип общественной жизни.
Демонтаж бюджетного сектора.
Бюджетный сектор, который обеспечивал стабильную занятость, доходы и социальные гарантии, стал легкой мишенью для неолиберальных реформ. Как указывает Стэндинг: «…как только чиновники стали выполнять приказ своих политических хозяев к переходу на частные рынки труда, пропасть между их привилегированной защищенностью и положением остальной части общества стала зияющей. Понятно, что недалек был тот час, когда гибкости потребуют и от самого бюджетного сектора. …Атака началась с попыток коммерциализировать, приватизировать и перевести на договорную основу услуги» [18].
Товаризация образования
Превращение образования в товар (коммодификация) и его недоступность (в США стоимость обучения растет быстрее, чем доходы населения) происходит одновременно с опрощением, инфантилизацией и качественной деградацией. Сегодня все настойчивее говорится о необходимости отказа от традиционного классического образования и переходу, например, на дистанционные, игровые или узкопрофильные формы обучения.
Отказ от социальных гарантий бизнеса и государства и ускоренное изменение рынка труда.
Постоянное увеличение пенсионного возраста, отказ от пенсионных «издержек» со стороны бизнеса и государства, нестабильность пенсии в системе пенсионных фондов — стали постоянными явлениями современной либеральной экономики. Одновременно происходит демонтаж профессий и уничтожение профессиональных сообществ. В России пересмотр профессий (постоянное и системное невписывание в рынок) возведен сегодня в принцип модернизации экономики.
Все описанные явления имеют негативный и болезненный характер для общества, но выгодны современному сверхобществу. Речь идет не только о сохранении и увеличении прибыли для капитала, но, прежде всего, о сверхвласти. Современное общество, лишенное политической, социальной и экономической субъектности, которой недолгое время обладал еще классический пролетариат, становится абсолютно подчиняемым и управляемым. Оценить и понять новые социальные феномены можно только с проектной точки зрения. Прекариат является не чем иным, как проектом, влекущим неизбежную трансформацию общества, которую было бы точнее назвать логичным продолжением и развитием «старого» капитализма.
Сокрытие социальной трансформации происходит через пересмотр неудобных понятий и их «позитивное» переименование, наподобие: неполной занятости, удаленной работы, стажеров, аутсорсинга, офшоринга, договора с «нулевым временем» и т.д. Это лишь немногие идеологические ухищрения, которые описывает Стэндинг, внедряемые с целью маскировки трудовой гибкости. При этом регрессивная социальная модель продвигается под видом безусловного прогресса. Другое дело, что машина идеологической обработки общества настолько эффективна, что большинство, имея, как ему кажется, бесконечный доступ к массовому потреблению, искренне считает себя бенефициаром либерального капитализма. Найдется немало людей, которые сочтут описанные выше трансформации позитивными и желанными.
Из книги Гая Стэндинга можно сделать неутешительный вывод: в России по-прежнему последовательно и неумолимо реализуется неолиберальный проект, единственным препятствием которому остается наследие советской социальной системы, подошедшее к своему исчерпанию. Социальная эволюция России развивается в направлении, грозящем обществу новой исторической катастрофой.
Процесс социальной модификации (деградации) общества носит осмысленный и прогнозируемый характер. Как отмечает Александр Зиновьев: «…во второй половине XX века произошел перелом в самом типе эволюционного процесса: степень и масштабы сознательности исторических событий достигли такого уровня, что стихийный эволюционный процесс уступил место проектируемой и управляемой эволюции. Это, напоминаю, не означает, будто все в эволюции человечества стало планироваться, и ход эволюции стал управляться в соответствии с планами. Это означает, что целенаправленный, планируемый и управляемый компонент эволюционного процесса стал играть определяющую роль в конкретной истории человечества» [19]. В этом контексте сегодня приходится говорить именно о социальной контр-эволюции как явлении, направленном на закабаление самого эволюционного процесса человечества.
Чтобы изменить структуру человечества, необходимо изменить социальные институты, экономическую и политическую модель, а главное — самого человека. Люди должны будут принять установившуюся систему как естественную, и воспринимать свои роли и обязанности (подчиняться, служить и приносить прибыль) в общей системе как подлинные. Но осуществить это будет не так просто, потому что человек до сих пор являлся «камнем преткновения» для абсолютной власти.
Современное человечество крайне неоднородно, что позволяет сохраняться структурам, потенциально являющимся альтернативой. Концепция идеального общества недаром связывалась с однородностью (гомогенностью) — утопическим обществом тотального благоденствия или антиутопическим тоталитарным обществом всеобщего насилия. Главное, что система будет тотальной, и новая структура человечества установит такую однородность, в которой все без исключения классы, не входящие в состав элиты, станут рабской силой.
В новой структуре будут разрушены все различия и дифференциации (создававшие до сих пор относительную независимость отдельных общественных групп) через «аннулирование» их социальных статусов. Профессор, разнорабочий, врач, инженер, менеджер, военный и т.д. — все будут уравнены в статусе рабов. Объединение классов общества приведет к установке единственного социального разделения: «капитал-власть» — «работник-раб». Таким образом, осуществится фундаментальный поворот назад, к рабству или, выражаясь современным языком, «рабству 2.0», распространяющемуся на всю планету. Рабами тогда станут не отдельные классы или народы, а все люди. Каждый индивид автоматически превратится в глобального недочеловека.
Трансформировать структуру человечества невозможно без взлома и разрушения «герметичных» социальных систем, которые оказывают сопротивление всепроникающей силе капитала и дегуманизации, консервируя социальную идентичность (синоним независимости) человека. Герметичность социальных структур, которая была сохранена, например, в СССР, совсем не означает социальную, профессиональную и культурную закрытость. Как раз наоборот, кастовость и отсутствие социальных лифтов, как бы они ни маскировались, характерна как раз для капитализма. Одной из таких герметичных систем является наука, при этом ее советский вариант в данном случае самый показательный. Ведь наука включает не только собственно научную деятельность, но и определённый образ жизни, культурный досуг и т.д. Научную элиту можно сломать экономически, но невозможно интеллектуально и культурно. А такие люди в новой структуре не нужны и опасны.
Пока герметичные сообщества складываются на другом полюсе социального бытия в виде социальных «черных дыр» наподобие прекариата. Можно утверждать, что прекариат в ближайшем будущем будет расширяться не только благодаря «деклассированным» элементам; уровень образования среди молодежи в современном западном и российском обществе все меньше связан с уровнем востребованности. Но подобные сообщества не представляют опасности для системы, несмотря на их деструктивный характер они встраиваются в нее таким образом, что вредят только самому обществу, но не капиталу. Функции маргинальных, брошенных классов и слоёв общества заключаются не в производстве продукта, а в воспроизводстве бедности, через которую осуществляется управление обществом.
Контуры будущей структуры человечества можно увидеть в интенсивно навязываемой инновационной экономике, «побочным» эффектом которой является уничтожение социальной и гуманитарной автономии человека и невозможность создания и воспроизводства герметичных социальных групп. Так, например, в рамках новой социальной мобильности люди должны будут перемещаться с места на место и менять профессии. Те же, кто не сможет адаптироваться, разумеется, будут обречены на вымирание, а т.н. революция больших данных, которая «изменит то, как мы живём, работаем и мыслим» [20], сделает свободное и неподконтрольное распространение и восприятие информации невозможным.
Иными словами, изменения структуры человечества неразрывно связаны с перепрограммированием природы человека, который примет упрощенную структуру (господин — раб, элита — все остальные) как естественное положение вещей и не сможет критически ее осмыслить. Это долгосрочный процесс социальной контр-эволюции, который, впрочем, вследствие своей исторической протяженности, дает шанс на сопротивление. Новой социальной структуре человечества нужно противостоять не только экономически и политически, но и гуманитарно, и культурно. Нельзя не учитывать и еще одно обстоятельство: западное общество с 2000-го года начало стремительно меняться. Речь идет уже не о победе капитализма над коммунизмом, а о становлении качественно нового, по своей сути — постчеловеческого миропорядка, в котором российско-советской цивилизации нет места.
Выходом из эволюционного тупика современного общества потребления может быть его преодоление, которое неосуществимо без социальной регенерации, а она в свою очередь является основой конкурентоспособности в современном мире. Ведь даже в эпоху холодной войны главным преимуществом СССР была не военная сила, а социальная организация общества.
Главным вкладом советского общества в социальный прогресс человечества Зиновьев называет построение «реального коммунизма». Реальный, «советский» или «русский» — по Зиновьеву, коммунизм следует отличать от идеологического коммунизма, который остается почвой для всевозможных пропагандистских манипуляций, идеологического мошенничества и фальсификаций как со стороны сторонников, так и противников советского общества. Реальный коммунизм имел множество реальных недостатков (сам Зиновьев был их первым критиком), как, впрочем, имел их и реальный Запад. Однако наличие проблем не отменяет достижений советского общества, долгое время претендовавшего на мировое лидерство в процессе социальной эволюции человечества и на каком-то этапе истории даже опередившего Запад.
Речь шла не только о противостоянии между социалистической и капиталистической системами, но и конкуренции двух сверхобществ, которое определило весь ход мировой истории в ХХ веке. Итоги холодной войны, казалось бы, поставили окончательную точку в этом процессе. Советское общество было деморализовано и атомизировано, а сверхобщество, вследствие социальной контрреволюции, — разрушено. Россия превратилась в периферию западного мира. Масштаб социальной катастрофы превзошел ее геополитическое измерение. История оказалась полностью под контролем Западного сверхобщества, а Россия — в цивилизационном тупике.
Как указывает в работе «Гибель русского коммунизма» Александр Зиновьев, «социальная организация постсоветской России умышленно сконструирована так, чтобы не допустить ее возрождения как социального феномена, способного конкурировать с Западом за доминирование в процессе эволюции человечества, способного препятствовать Западу в его борьбе за мировое господство» [21]. В этих условиях вопрос не то, что о лидерстве, но даже и об элементарной конкуренции был до сих пор просто невозможен. Весна 2014 года изменила ситуацию, дав России новый исторический шанс для восстановления собственного социального (и цивилизационного) проекта.
Что является уникальным конкурентным преимуществом современной России по сравнению с глобальным Западом? Главным преимуществом и особенностью (уникальным предложением, — выражаясь языком брендинга и маркетинга) может стать общественно-полезный труд, при условии цивилизационного переосмысления труда в рамках проектного подхода. Общественно-полезным трудом следует назвать труд, без которого нельзя обойтись обществу, и который одновременно формирует его базовые ценности, социальные механизмы, принципы поведения и приоритеты развития. Сегодня можно выделить два типа общественно-полезного труда: «относительный» и «абсолютный».
К «абсолютному» типу относятся: медицина, образование, наука, социальные службы, безопасность. В рамках государства он доступен всем классам общества без социального и имущественного ценза. Абсолютный общественно-полезный труд не связан с частной прибылью и капиталом.
«Относительный» общественно-полезный труд рассматривает общество в качестве потребителя, его польза ограничена покупательной способностью каждого отдельного человека и общества в целом. И, хотя он приносит определенную пользу через распространение потребительских товаров и сервисов, в большинстве своем он избыточен, спекулятивен и приносит пользу только незначительной части общества. «Относительный» общественно-полезный труд пользуется инструментами гуманитарного и коммуникационного «принуждения» к потреблению, и в рамках современной политэкономии маскируется под базовые и реальные потребности общества. Но он же создает бедность, дегуманизацию и деквалификацию и уничтожает человеческий потенциал по обе стороны потребления.
Разумный социально-экономический баланс между двумя типами труда в либерально-капиталистической системе Запада уже давно нарушен. Труд присваивается капиталом и становится все менее общественно-полезным. Бесполезность и бессмысленность своей деятельности чувствуют многие работники самых разных сфер современной экономики и бизнеса, даже их успешность и востребованность не уменьшают растущий скрытый социальный пессимизм и уныние. Десоветизация российского общества, определявшая политический, культурный, идеологический и пропагандистский мейнстрим девяностых и нулевых годов, привела в тупик социального расслоения, разобщения, пессимизма, ненависти и отсутствия перспектив развития. 2013 год стал высшей кульминационной точкой глубочайшего социального кризиса, хотя и спрятанного за фасадом потребления версии «тучных лет».
Процесс изъятия жизненно важных для общества профессий из общественно-полезного труда связан с переводом общественно-полезного труда в сферу частного бизнеса, что является одним из принципиальных требований неолиберальной экономики. Труд на благо общества, который обеспечивает государство, замещается трудом на благо капитала, у которого нет обязанностей перед обществом.
Общественно-полезный труд является более устойчивым, в отличие от рыночного, и поэтому создает конкуренцию частному капиталу, обеспечивая независимость от него общества и государства. Общественно-полезный труд создает условия для социального единства, обеспечивает связанность общества через взаимодополняющие институты в рамках единой структуры государства. Удар по сферам общественно-полезного труда является осознанной стратегией. Для капитала он является конкурентом и обременением, так как, в отличие от раздутой сферы относительного общественно-полезного труда, не создает надбавочную стоимость (и условия эксплуатации). Модель современного либерального капитализма угрожает российскому обществу фактическим разрушением. Особый цинизм и пикантность ситуации в России заключается в том, что о ненужности юристов и менеджеров говорит тот же самый либеральный класс, который до этого говорил их отцам о том, что они не вписались в рынок.
В XXI веке новая концепция труда может стать фундаментальной и привлекательной для всего мира «русской идеей», предпосылки и части которой содержатся и в советском, и в дореволюционном периодах. В общественно-полезный труд должны быть интегрированы профессии, которые сегодня находятся на службе у капитала.
Вместо заключения
Потребление породило кризис социального знания, одной из причин которого в современном мире стало возникновение во второй половине ХХ века феномена ложной социальной идентичности. Ложная социальная идентичность — не индивидуальное психическое явление, но, прежде всего, массовый социальный феномен. Ни с чем подобным классические политэкономические теории прежде не сталкивались, данный феномен не мог быть описан во времена К. Маркса. Структурные социальные и статусные барьеры воспроизводились на всех формальных и неформальных уровнях (от одежды до языка) и не могли быть массово нарушены. Но именно видимость социальной структуры формировала и обостряла классовое сознание.
Условиями возникновения и существования ложной социальной идентичности стали:
Массовое потребление позволило расширить и размыть классовую идентичность старого капитализма, и начать имитировать классовую структуру общества. Имитация общественной структуры имеет вполне конкретные формы в духе новояза, начиная от появления таких понятий как «средний класс» или «креативный класс», до возникновения многочисленных «псевдопрофессий» и придумывания «политкорректных» названий, не отражающих реальные трудовые функции. Данная трансформация также соответствует задачам и практики демократизма.
В информационном обществе (а с возникновением новых коммуникационных технологий и степени их проникновения в жизнь общество стало реально информационным, в отличие от мифа постиндустриального общества, хотя бы потому, что информация сегодня — это индустрия) ложная социальная идентичность стала инструментом манипуляции массовым сознанием, снова в пользу демократизма и потребления. Культура была заменена информацией.
Ложные социальные идентичности стали заменителем классового сознания. Именно в этом, а не в появлении новых цифровых технологий, заключается виртуализация общества. Результатами произошедшей подмены стало тотальное непонимание социальной реальности. Возникновение новых социальных и управленческих феноменов (сверхобщества и сверхвласти) не получили критического осмысления. Общество же стало отождествлять и ассоциировать себя не с собственными интересами, а, например, с интересами капитала, и вполне искреннее поддерживает угнетающую его систему, виртуально причисляя себя к ее бенефициарам. Социал-дарвинизм разделяется не только элитами, но и обществом, которое является его главной жертвой. В рамках ложной идентичности социальное недовольство и агрессия могут быть перенаправлены, например, на государство, что многократно воспроизводилось в тех же «цветных революциях» [22] 2004–2014 годов.
Отметим, что современная антикапиталистическая и социальная мысль демонстрирует весьма печальное состояние современности. Собственно, левые течения на Западе подвергались критике еще советской политэкономией [23] за отхождение от марксизма и отсутствие реалистического понимания современной социальной системы, — сегодня история демонстрирует правильность этой критики. Попытки переосмыслить действительность и сопротивляться системе (думать и жить иначе) упираются в отсутствие инструментов сопротивления. Обман общества потребления, служащий фасадом и одновременно — алиби капитализма, уже не прельщает тех, кто находится внутри системы, но не может быть выражен в категориях системной политэкономии. Анонимные авторы типичной для этих направлений протестной книги «Работа (Капитализм. Экономика. Сопротивление)» заново открывают истину, давно известную все в том же марксизме: «Капиталистам пришлось совершить благое дело. Вынужденные одарить деньгами и свободным временем тех, кого они эксплуатируют, они изобрели массовое потребление, чтобы деньги и время, в конечном счёте, всё равно вернулись в их карманы» [24]. У современных левых, антиглобалистких и контркультурных течений нет теории, нет методологии, нет системного мышления, зато есть горький жизненный опыт: «Работая, потребляя и оплачивая счета, каждый из нас вносит свой вклад в воспроизводство условий, которые делают необходимыми все эти действия. Капитализм возможен потому, что мы вкладываем в него всё: всю нашу энергию и гениальность мы приносим в жертву рынку, все наши ресурсы оказываются в супермаркетах и на рынках ценных бумаг, а всё наше внимание поглощено СМИ. Если быть совсем точными, мы бы сказали, что капитализм существует, потому что наша ежедневная деятельность и есть капитализм» [25]. Но существенного выбора нет. Поэтому протест маргинализирован настолько, что работникам ничего не остается, кроме как вредить хозяевам по-мелкому — воровать, саботировать, добиваться небольших послаблений и улучшений труда. И этот протест слишком локален, несмотря на уверения авторов «Работы» о его сетевом характере. Системе он не опасен, так как у этого протеста нет серьезной теории, все меньше осмысленной практики, нет и позитивной повестки.
Критически осмыслить социальные изменения для общества можно только в рамках классового сознания. Отметим, что в постсоветской России даже сам термин «классовое сознание» был фактически отменен. Классовое сознание может существовать только в рамках знания об обществе, которое воспроизводится в осязаемой форме идеологии. От идеологии российское общество также отказалось, вернее, вместо советской идеологии пришла идеология западная, а социальное знание было заменено системой ложных социальных идентичностей. Культуре было навязано принципиальное отчуждение, фундаментальное образование заменено компетентностным подходом.
Данная система перестает работать не только в России, но и на Западе. Потребление и демократизм больше не могут скрывать кризис неолиберальной экономики; ложная социальная идентичность эффективна по отношению к «среднему классу», но уже не к прекариату. Проект общества потребления завершается, оставляя за собой деформированное, деквалифицированное и дезориентированное общество. И это ставит сложные проектные проблемы по воссозданию социального знания. В рамках классических социальных теорий и идеологий решить данную проблему невозможно. Таким образом, в рамках постмарксизма и нового социального знания должен быть поставлен и решен вопрос о формировании реалистической и позитивной социальной идентичности.
Кризис общества потребления заключается не в том, что оно не может и дальше обеспечивать количественный и качественный уровень потребления или совершенствовать сервисы. В конце концов, на переваривание массива брендов и товаров и формирование еще большего их объема может быть брошен тот же самый креативный класс, функции которого изменятся, а само потребление станет креативным.
Креативное потребление в этом случае превратится в систему, заставляющую общество самому придумывать новые потребности, чтобы установить новую зависимость всего цикла производства-потребления от быстро меняющейся моды, создав еще более динамичную и хаотичную, с точки зрения классического производства, модель спроса. Экономической повесткой станут не технологические переделы и формации (что отчасти уже произошло в так называемой постиндустриальной экономике), которые приобретут вторичное, техническое значение, а формирование горизонтальных и гипермобильных потребительских запросов и способов утилизации произведенных товаров и услуг. Дизайн производства превратится в чистом виде в дизайн потребления. Элитную социальную и экономическую функцию возьмут на себя классы, которые будут в состоянии формулировать новые потребности и варианты потребления в качестве незаурядного потребителя, забыв при этом об общественном служении, ведь в расчет тогда будут приниматься только заслуги перед экономикой и культурой потребления.
Но такой сценарий уже сегодня представляется слишком оптимистичным. Проблема заключается в цене, которой оплачивается и поддерживается (и планируется поддерживать) уровень потребления, и к каким последствиям привела эта модель. За видимым благополучием, комфортом и разнообразием все яснее материализуются угрожающие обществу тенденции: дегуманизация, социальное расслоение и отчуждение общества, рост бедности и несвободы, которая в обществе потребления гораздо выше и изощреннее, чем в классических политических диктатурах, отсутствие развития и т.д.
Негативным вариантом развития современного общества потребления является доведение действующей экономической модели до крайности, когда существующий уровень сверхприбыли капитала и контроля над обществом может привести к экологической и гуманитарной катастрофам. Позитивный вариант заключается в новом экономическом укладе, который изменит производство, потребление, и естественным образом переформатирует гуманитарно-коммуникационные технологии обеспечения новой социально-экономической действительности.
Средствами системного преодоления неолиберальной социально-экономической модели общества потребления являются:
Переход от потребительского общества к системе нового типа может быть только проектным, но этот социальный проект не может быть воспроизводством западного капитализма и ремейком советского коммунизма. В конце концов, СССР не смог справиться с системным кризисом конца 70-х и 80-х, являвшегося неотъемлемой и повторяемой частью всех сложных социальных систем, включая капитализм и коммунизм.
Путь к постпотреблению является чрезвычайно сложным и трудным процессом, началом которого служит переосмысление системных оснований современной социально-экономической и политической реальности. Таким образом, реализация собственного, нового позитивного социального проекта, альтернативного современной системе потребления, для России является условием сохранения в истории, что автоматически воспринимается в качестве главной экзистенциальной угрозы своей власти со стороны неолиберальной системы. Главное, чтобы постпотребительское общество не стало обществом такого типа, какое описано в литературных и кино-антиутопиях. Такой сценарий вполне вероятен и требует отдельного анализа, так как центральный и самый главный вопрос: в чьих интересах будет совершен отказ от потребления — остается открытым и станет фактическим содержанием социальной истории XXI века.
К социальной проектной деятельности российское государство сможет приступить не раньше 2017 года. Символичность этой даты может пугать или вселять надежду, важна реальная готовность государственной власти и общества к созидательной деятельности в качестве субъекта социальной истории.
Литература